Навидҳои рӯз
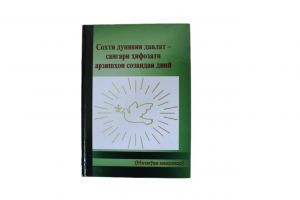
- Душанбе, 16 Сентябр 2024
СОХТИ ДУНЯВИИ ДАВЛАТ - САНГАРИ ҲИФОЗАТИ АРЗИШҲОИ СОЗАНДАИ ДИНӢ
Маҷмуаи мақолаҳо бахшида ба суханронии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дини кишвар, ки дар таърихи 09.03.2024 ба вуқуъ пайваста буд, таҳти унвони "СОХТИ ДУНЯВИИ ДАВЛАТ - САНГАРИ ҲИФОЗАТИ АРЗИШҲОИ СОЗАНДАИ ДИНӢ" нашр гардид.
Зери назари профессор Саломиён Муҳаммаддовуд
Муҳаррири масъул: доктори илмҳои филологӣ Қаландариён Ҳоким Сафар
Мураттиб ва мусаҳҳеҳ: номзади илмҳои филологӣ Назаршоева Чилла Раҳимбековна
СОХТИ ДУНЯВИИ ДАВЛАТ - САНГАРИ ҲИФОЗАТИ АРЗИШҲОИ СОЗАНДАИ ДИНӢ
Дар ҷаҳони муосир афзоиши бесуботӣ дар ҷаҳон, аз ҳам чудо кардани фарҳангҳо, халқҳо, динҳои ҷаҳонӣ ва барангехтани низоъҳо дар заминаи динӣ танҳо ба як самт тибқи принсипи маъруфи "тақсим кун ва забт кун" нигаронида шудааст, ки аз ҷониби гурӯҳҳои ғараздор устокорона кор фармуда мешаванд. Бо ин мақсад аз тамоми имконоти мавҷуда: дурӯғу иғво, омилҳои дохиливу хориҷӣ барои заиф ва пароканда кардани ҷомеа, барангехтани низоъҳои миллӣ ва динӣ истифода хоҳанд шуд. Дар расидан ба ин ҳадаф ба онхо таассубу хурофот ва тасаввуроти нодурусти мо фаъолона ёрӣ мерасонанд.
Тоҷикистони муосир кишварест дорои низоми дунявии арзишҳо, ки таҳти роҳбарии пурсамари Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар чизе, ки метавонад ба рушди минбаъдаи кишвар монеа эҷод кунад, муқобил аст.
Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дини кишвар тамоми муҳаққиқон, магистрантон ва докторантони PhD-и Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандарови АМИТ-ро водор намуд, ки ба суханронии мазкури Президенти мамлакат диду андешаҳои худро баён намоянд, ки онҳоро таҳиягарони маҷмуа дар шакли фишурда ба хонандагон пешкаш намуданд.
Муфассал ...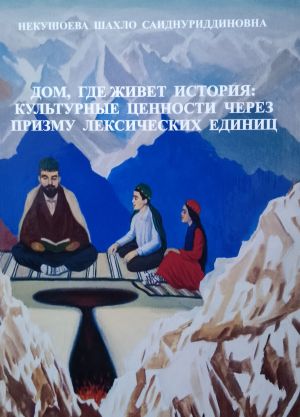
- Панҷшанбе, 12 Сентябр 2024
ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ ИСТОРИЯ: КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Кандидат филологических наук Некушоева Шахло Сиднуриддиновна
ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ ИСТОРИЯ: КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Сборник статей под названием «Дом, где живет история: культурные ценности через призму лексических единиц» охватывает серию статей автора книги, которые посвящены анализу лингвокультурных аспектов концепта ДОМ в памирских языках на примере шугнано-рушанской языковой группы. Рассмотрены вопросы синонимического поля и экспликаторы данного концепта, словообразовательные гнезда с вершинами синонимов дом в языках шугнано-рушанской группы, а также некоторые мировоззренческие стороны всего составляющего содержания некоторых лексических единиц, связанных с традиционным памирским домом. С этой точки зрения, можно констатировать, что анализ лексических единиц лексико-семантического поля концепта ДОМ в рамках исследований когнитивной лингвистики для упомянутой группы языков проводиться впервые.
Муфассал ...

- Сешанбе, 10 Сентябр 2024
СОХТМОНИ РОҲИ МУРҒОБ-ҚУЛМА-ҚАРОҚУРУМ – САМАРАИ ИСТИҚЛОЛИЯТ
Азорабекова Ширингул – ходими
калони шуъбаи таърих, бостоншиносӣ
ва мардумшиносии ИИГ АМИТ
СОХТМОНИ РОҲИ МУРҒОБ-ҚУЛМА-ҚАРОҚУРУМ – САМАРАИ ИСТИҚЛОЛИЯТ
Инкишофи ҳамаҷонибаи муносибатҳои дустона ва мутақобилан манфиатбахш бо Ҷумҳурии Халқии Хитой яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Хитой дар шумори аввалинҳо истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохта, бо кишвари мо муносибатҳои дипломатиро барқарор намуд. Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой 4-уми январи соли 1992 барқарор шуданд. Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Халқии Хитой 7-уми апрели соли 1997 дар шаҳри Пекин ба кор шурӯъ намуд. Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой пеш аз ҳама ҳамсояи наздик, дӯст ва шарики боэътимоданд. Ҳамкории мутақобилан судманди ду давлат, ки бар пояи усулҳои ҳамзистии осоишта асос ёфтааст, устуворона ва пайгирона ба манфиати ҳар ду давлат ва миллат инкишоф меёбад. Аз нигоҳи таърихии тоҷикон ва хитоиҳоро муносибатҳои деринаи тиҷоратӣ, фарҳангӣ ва илмӣ муттаҳид месозанд, ки имрӯз дар заминаи сифатан нав эҳё мегарданд. Дар марҳалаи душвори ташаккулёбии давлатдории тоҷикон, Ҷумҳурии Халқии Хитой чандин бор ба кишварамон мадади моддӣ расонида, ба таври устувор сиёсати роҳбарияти Тоҷикистонро барои барқарор намудани сулҳу субот ва разоияти миллӣ дастгирӣ намуд. Марҳилаи пас аз барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой аз сафарҳои пурсамар дар сатҳҳои мухталиф, қабл аз ҳама дар сатҳи олӣ, робитаҳои корӣ миёни намояндагони ду кишвар ғанӣ аст, ки аз ҳамкориҳои ояндадор дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ-техникӣ, ҳарбӣ, гуманитарӣ шаҳодат медиҳанд.
Бояд қайд намуд, ки нахустин сафари расмии роҳбари давлат, Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи кишвар ба Ҷумҳурии Халқии Хитой 7-11-уми марти соли 1993 сурат гирифта буд. Дар фарҷоми ин боздид Эъломияи муштарак дар бораи принсипҳои асосии муносибатҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой аз ҷониби ду давлат ба имзо расид. Ғайр аз ин ҳашт созишнома ва ду протокол дар бораи ҳамкории дуҷониба имзо шуданд.
Дар Эъломия аз ҷумла омадааст, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро баҳри ҳимояи истиқлолияти миллӣ ва соҳибихтиёрӣ, барқарор намудани сулҳу суббот дар қаламрави кишвари худ дастгирӣ менамоянд Ҷониби Тоҷикистон дар навбати худ ҳукумати Ҷумҳурии Халқии Хитойро ягона ҳукумати қонунии тамоми Хитой эътироф намуда, Тайвонро қисми ҷудошавандаи он мешуморад ва Душанбе ба он муносибатҳои расмӣ барқарор нахоҳад кард.
Тоҷикистон ва Хитой мунтазам дар масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои дуҷониба ва мушкилиҳои мубрами байналхалқӣ мубодилаи афкор менамоянд. Бо кӯшиши ҷонибҳо, заминаи боэътимоди шартномавӣ-ҳуқуқӣ ба вуҷуд омадааст, ки ба рушди ҳамдастиҳои сиёсӣ ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди иқтисодӣ мусоидат мекунад. Бо назардошти сатҳи баланд ва самараноки муколамаи сиёсии ба даст омада, эътимоди тарафҳои сол то сол робитаҳои мунтазам густаришёбандаи иқтисодӣ ва гуманитарӣ, мустаҳкам кардан ва такмил додани пойгоҳи шартномавӣ-ҳуқуқии ҳамкориҳои Тоҷикистону Хитой заруранд.
Маҳз ҳамин ҳамкориҳои дутарафа имкон доданд, ки сохтмони шоҳроҳи Мурғоб-Қулма-Қарокурум оғоз ёбад. Ин роҳ Тоҷикистонро бо Чин, Покистон, Эрон, Ҳинд ва бандарҳои калонтарини ҷаҳонӣ мепайвандад. Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон имрӯзҳо бо вилоятҳои Ҷумҳурии Халқии Чин равобити тиҷоратӣ дорад, ки барои рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд. Сохтмони роҳи Мурғоб-Қулма-Қароқурум ин ду давлати ҳамсояро боз бештар ба ҳам наздик намуд.
Чин ва Тоҷикистон мамлакатҳои дуст ва ҳамсоя, ки тавассути кӯҳҳои баланд ва дарёҳои бузург ба ҳам пайвастаанд. Дӯстии халқҳои ҳар ду мамлакат таърихи қадимӣ доранд, гуфта буд, ходими давлатию ҷамъиятии Ҷумҳурии Халқии Чин Цзян Цзэмин.
Моҳи ноябри соли 1997 дар фасли сармои зимистони Помири Шарқӣ дар давраи буҳрони шадиди иқтисодӣ сохтмони роҳи Мурғоб-Қулма-Қароқурум оғоз гардид.
Тавассути ғамхории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон навбати аввали роҳи Мурғоб-Қулма-Қароқурум дар муддати кутоҳ, яъне то 1-уми ноябри соли 1998 сохта ба истифода дода шуд.
Дар аввал барои сохтмони ин шоҳроҳ проблемаҳои зиёде ба вуҷуд омаданд. Бо ин мақсад сардори давлат Эмомалӣ Раҳмон чандин маротиба бо роҳбарияти Ҳукумати Чин дар шаҳрҳои Пекин ва Душанбе мулоқот намуд. Албатта, барои сохтмон ва ба сатҳи ҷаҳонӣ мутобиқ кардани ин шоҳроҳ корҳои зиёдеро ба анҷом расондан зарур буд. Аз он ҷумла мумфарш карда, қад-қади он иншооти комуникатсионии шаҳракҳо ва маҳалҳои аҳолинишин, марказҳои савдо ва хизматрасонии маишӣ бунёд кардан лозим буд, то ки минтақаҳое, ки роҳ аз байни онҳо мегузарад, ободу зеботар гарданд.
Масофаи шоҳроҳ аз Душанбе то сарҳади Хитой 1010 км ва то Давлати Исломии Покистон 1110 км ташкил медиҳад. Барои амалсозии лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Мурғоб ағбаи Қулма дар солҳои 2000-2003 14 млн. 813,0 ҳазор доллари ИМА масраф гардид. Лозим ба ёдоварист, ки дар он давраи душвор роҳи Мурғоб-Қулма-Қароқурум ба таври замонавӣ сохта шуд. Намояндагии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат Оқил Оқилов чандин маротиба аз ин шоҳроҳ дидан намуданд.
3-уми ноябри соли 1998 ба муносибати кушода шудани роҳи автомобилгарди Мурғоб-Қулма президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба ВМКБ ташриф оварда, дар ҳузури мардуми Тоҷикистону Чин суханронӣ намуд. Аз он ҷумла таъкид намуданд, ки “боиси хушнудист, ки имрӯз мо шоҳиди боз як воқеаи муҳим – кушодашавии роҳи мошингарди Мурғоб-Қулма мегардем, ки натиҷаҳои кӯшишҳои пайгиронаи Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ва меҳнати суботкоронаи сохтмончиён аст.
Албатта, дар амал тадбиқ намудани барномаи пурвусъат меҳнати софдилона, вақт ва маблағи калонро тақозо мекунад. Вале бо дарназардошти он ки мамлакати мо дорои неруи бузург аст, мутахассисон олимон, коркунони соҳибтаҷриба кам нестанд ва аз ҳама муҳимаш созандагии халқият хислати азалии мардуми тоҷик аст, ман боварӣ дорам, ки мо ҳама мушкилоти мавҷударо паси сар мекунем, ба ҳамаи сахтиҳо тоб меорем ва ба муроди хеш мерасем” [2].
24-уми майи соли 2004 шоҳроҳи Мурғоб-Қулма кушода шуд. Ин роҳ барои тараққиёти минбаъдаи вилоят аҳамияти махсус дорад. Бадахшон дорои захираҳои бойи фоиданок мебошад ва ин имконият медиҳад, ки бо Ҷумҳурии Халқии Чин ва дигар давлатҳо корхонаҳои муштарак дар соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ бунёд кунад. Бо ин шароити мусоид садҳо ҷойи нави корӣ кушода мешаванд.
Ҳамаи ин пешравиҳо аз нерӯи Истиқлолият буд, ки Бадахшон бори нахуст дар таърих аз изолятсияи ҷуғрофӣ берун гашт. Муроди истиқлолият танҳо бунёдкорист. Нерӯи истиқлолиятро ягон ҳаводис тағйир дода наметавонад.
Шоҳроҳи Мурғоб-Кулма-Қароқурум дар баробари дигар иншоотҳои бузурги Тоҷикистон аҳамияти калон дорад.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба саволҳои хабаригорони воситаи ахбори Ҷумҳурии Халқии Чин 22-юми майи соли 2006 оид ба аҳамияти бузурги ин роҳи мошинагарди байналмиллалӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон посух гуфта, зикр карданд, ки сохтмони роҳи Душанбе-Хоруғ-Қошқар тавассути ағбаи Қулма ба ифтитоҳи гузаргоҳи марзӣ дар июли соли 2004 анъанаи «Роҳи Абрешим»-ро эҳё менамояд. Шарқу Ғарбро мепайвандад ва аҳамияти на фақат иқтисодӣ, балки сиёсӣ хоҳад дошт. Орзуи деринаи халқи тоҷик дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо ҳамсояи бузурги худ амалӣ гардид. Фаъолияти роҳи автомобилӣ ба инкишофи минтақавӣ мусоидат намуд. Тоҷикистон ва ҳамсоягон имконияти амалӣ пайдо намуданд, ки на фақат ба бозорҳои Хитой, балки Покистон, Ҳинд, Осиёи Шарқиву Ҷанубӣ ва бандарҳои уқёнуси ҷаҳон роҳ ёбанд.
Ҳоло дар гузаргоҳи наздисарҳадии Қулмаи Чин савдои сарҳадӣ равнақу ривоҷ ёфтааст. Тавассути шоҳроҳи Мурғоб-Қулма-Қароқурум ҳар рӯз садҳо мошин ҳаракат намуда, дар як шабонарӯз ҳазорҳо тонна бори мавриди ниёзи мардумро мекашонанд.Танҳо дар соли 2007 аз гузаргоҳи сарҳадии Қулма 12,5 ҳазор мусофир гузошта, муомилоти мол 250 млн. доллари ИМА–ро ташкил додааст.
Соҳибкорони тоҷик бе ягон мушкилӣ вориди манотиқи Чин гардида, ба тиҷорат машғул мешаванд ва дар баробари ин, тоҷирони чинӣ низ ба Бадахшон рафтуомад доранд. Садҳо нафар аҳолии Бадахшон соҳиби мошинҳои мусорфиркаш гардида, ба халқашон хизмат мекунанд.
Дар баробари пешравиҳо, камбудиҳои зиёде низ дар ин соҳа ба назар мерасанд. Гарчанде, ки роҳҳои берунии Бадахшон дар сатҳи байналмилалӣ қарор дошта бошанд, роҳҳои дохилии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба талабот ҷавобгӯ нестанд. Роҳи мошинагарди Хоруғ ва ноҳияҳои вилоят фақат дар замони Собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ таъмир гардиданду халос. Сарвари давлат ҳангоми сафарҳои кориашон ба Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз вазъияти роҳҳои вилоят изҳори нигаронӣ менамоянд ва барои таъмиру азнавсозии онҳо ба масъулин дастуру супоришҳо медиҳанд. Маҳз ба шарофати ғамхории ҳамешагиашон таъмир ва барқарорсозии роҳҳ на танҳо дар самти зикргардида, балки дар тамоми ҳудуди вилоят ба нақша гирифта шудааст.
Хуллас, сохтмони роҳҳо, аз ҷумла роҳи Мурғоб-Қулма-Қароқурум дар таърихи миллати тоҷик хеле муҳим аст. Ин шоҳроҳи бузург яке аз комёбиҳои муҳими замони Истиқлолият аст, ки имконияти ба дараҷаи баланд тараққӣ кардани иқтисодиёти Тоҷикистонро фароҳам овард.
Китобнома:
- Эмомалӣ Раҳмон. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷ. 2 . - Душанбе, 2002. - С. 477.
- Эмомалӣ Раҳмон. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷ. 7. - Душанбе , 2002. – С. 450.
- Масов, Р. Файзи истиқлол дар «Боми ҷаҳон» / Р. Масов, Ҳ. Пирумшоев. – Душанбе, 2010. – 411 с.
Муфассал ...

- Ҷумъа, 06 Сентябр 2024
АКСИОМАИ «ПРЕЗИДЕНТ – ВАҲДАТ – ИСТИҚЛОЛ»
Варқа ОХОННИЁЗОВ
доктори илмҳои филологӣ
АКСИОМАИ
«ПРЕЗИДЕНТ – ВАҲДАТ – ИСТИҚЛОЛ»
Истиқлолияти давлатии мамлакати мо воқеъан давлати бемисол аст ва он ба шарҳи забонӣ эҳтиёҷ надорад. Бас аст ба симои ҳар як маркази ноҳия назар андохтан ва ё ба гирду атрофи як хоҷагии рустоӣ гаштан, то натиҷаи Истиқлол ва самараи онро ба чашми худ бинем. Дар шони пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ва марказҳои маъмурии вилоятҳои Ҷумҳурӣ бошад чӣ тавсифҳое, ки ба бор наоянд, каманд. Имрӯзҳо ҳар як маркази ноҳия худ мисли як гӯшаи пойтахти Ватан шукуфоии ба худ хос дорад ва дар пеши хонаи ҳар як сокини дилхоҳ деҳа нақлиёти гуногунтамға ва гуногунқувва дар хизмати хонавода омода истодааст. Дар хусуси он, ки дар тӯли ҳамагӣ 20 соли охир ҳар як сокини Тоҷикистон соҳиби телефони мобилӣ гардид ва нисфашон соҳиби ду адад чунин телефонҳо шудаанд, ҳоҷат ба исбот нест. Чи иншоотҳо ва сохтмонҳои бузурге дар давоми Истиқлолият бунёд нашудаанд!
Истиқлолияти давлатӣ барои давлат ва мардуми мо осон даст дод, вале нигоҳ доштан ва таҳким бахшидани он ба ивази ҳазорҳо ҷони фарзандони ин миллат муяссар гардид. Дар наҷоти Истиқлолияти Ватан аксиомае вуҷуд дорад, ки онро бояд такрор ба такрор ба самъи ҳар як сокини мамлакат расонд. Ин аксиома «ПРЕЗИДЕНТ – ВАҲДАТ – ИСТИҚЛОЛ» аст ва шарҳаш содда аст, вале мафҳум ва тӯли ба аксиома расиданаш душвор, заҳматталаб, иродапурс ва имтиҳонкунанда буд. Хонанда шояд саволе дошта бошад, ки таърихан Истиқлол аввал буд, Президет баъд ва Ваҳдат пас аз ин ду, вале дар аксиомаи шумо онҳо ба таври дигар омадаанд? Мафҳуми аксиомаи пешниҳодшуда маҳз дар ҷавоби ҳамин савол аст.
Мусаллам аст, ки ба истиқлолият расидани мамлакати мо аз ташаббус ё ибтикори афроди алоҳида камтар вобаста, балки он натиҷаи аз ҳам пош хӯрдани система ба таври умумӣ буд. Агар ба таърихи он солҳо назар андозем, мо ҳатто ҳолати аксро мушоҳида мекунем, зеро аксари давлатдорони давр ва аъзои ҳизби ҳоким ба тарафдории муттаҳид мондани ҷамоҳири Шуравӣ бархестанд. Вале чун чархи таърихро ба қафо тоб додан амрест муҳол, Иттиҳоди Шуравӣ аз ҳам пошид ва ҷамоҳири он ба мустақилияти давлатии хеш расиданд, ки Тоҷикистони мо яке аз онҳо буд. Мутаассифона, ба истиқлол расидани мамалакатро гурӯҳҳои алоҳида ба тарз ва фоидаи худ истифода намудан хостанд ва Ватану халқро ба вартаи кашмакашиҳо тела доданд. Яке аз сабабҳои ба муноқиша мувоҷеҳ гардидани мамлакат ин буд, ки на ҳамаи гурӯҳҳо ва кулли мардум роҳи фардояшонро медонистанд. Аз ин рӯ, онҳо аз ҷониби қувваҳои беруна осон ва бидуни ягон мушкилӣ идора мешуданд. Ин буд, ки Истиқлолият ба тангнои марг расид ва ...
... ва ба бахти Истиқлолият, Ватан ва Миллат ба сари давлати нимсохта ва нимносохта Президент омад, Президенте, ки ҷавонӣ, ҳастӣ ва ҳаёташро барои наҷот ва таҳкими истиқлолияти Ватан бахшид. Барои Истиқлолиятро аз нестӣ наҷот додан ва онро пояи мустаҳкам бахшидан, сарҷамъ намудани миллат, сулҳи абад ва имконият барои созандагӣ зарур буд. Мифтоҳи ин мушкил Ваҳдат буд ва Президент барои Ваҳдати миллат камар бар миён баст ва ҷон бар каф гирифт. Чӣ шабзиндадориҳо паси сар нашуданд ва чӣ хатарҳо пеш наомаданд дар ин роҳ! Президент ҳамаашро паси сар намуд ва миллатро ба Ваҳдат овард ва Истиқлолияти Ватанро наҷот дод.
Ин аст мафҳуми аксиомаи «ПРЕЗИДЕНТ – ВАҲДАТ – ИСТИҚЛОЛ»!
Муфассал ...


